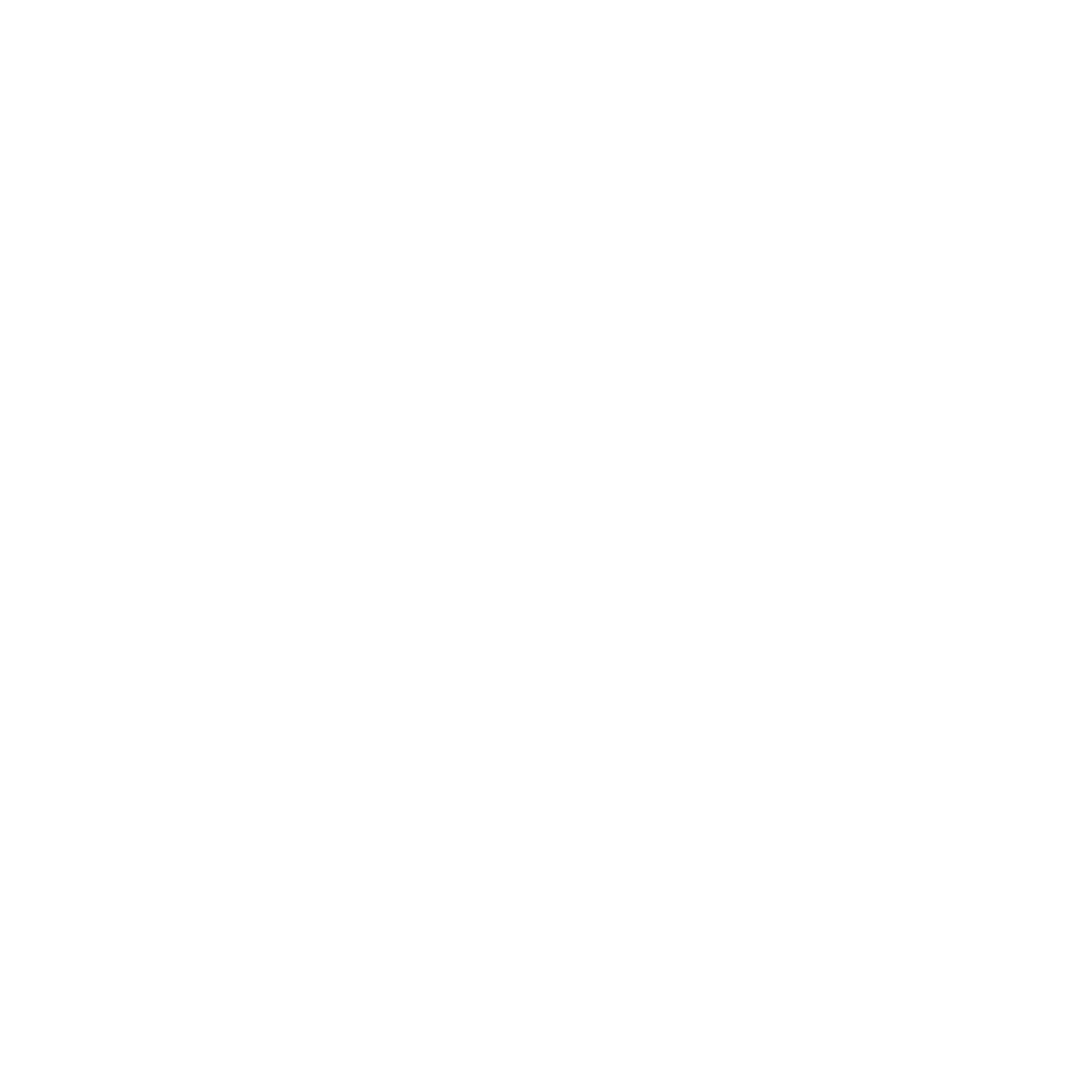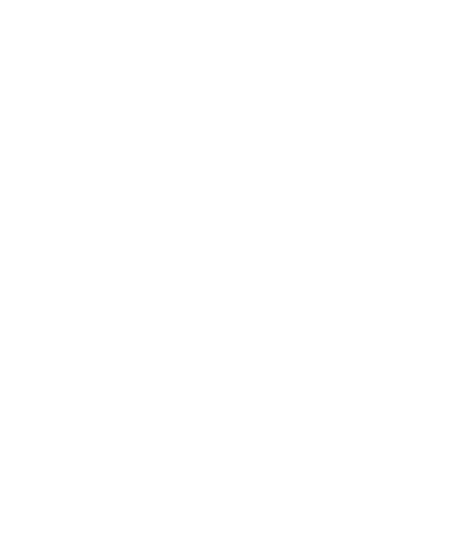Ольга Берггольц
символ блокады Ленинграда
Ольгу Берггольц называли «ленинградской Мадонной». Почти все 900 блокадных дней город говорил ее голосом. Он входил
в холодные, нетопленные дома, и столько
в нем было дружеского, женского участия, столько надежды и веры…
в холодные, нетопленные дома, и столько
в нем было дружеского, женского участия, столько надежды и веры…
Ольга Берггольц
символ блокады Ленинграда
Ольгу Берггольц называли «ленинградской Мадонной». Почти все 900 блокадных дней город говорил ее голосом. Он входил
в холодные, нетопленные дома, и столько
в нем было дружеского, женского участия, столько надежды и веры…
в холодные, нетопленные дома, и столько
в нем было дружеского, женского участия, столько надежды и веры…
«В истории ленинградской эпопеи она стала символом, воплощением героизма блокадной трагедии.
Её чтили, как чтут блаженных, святых», — говорил о ней писатель Даниил Гранин.
Её чтили, как чтут блаженных, святых», — говорил о ней писатель Даниил Гранин.
Обаятельный сплав женственности и размашистости, острого ума и ребячьей наивности — такой Ольга запомнилась современникам.
Семья Берггольц с многочисленными родственниками жила в двухэтажном деревянном доме за Невской заставой, вблизи Шлиссельбургского тракта. Фамилия у Ольги латышская – от деда со стороны отца. Другой дед, со стороны матери, был родом из рязанской деревни. Отец, Федор Христофорович Берггольц, окончил Дерптский университет, служил военно-полевым хирургом. Был он остер не только на скальпель, но и на язык, обладал молниеносным чувством юмора, а мама, Мария Тимофеевна Грустилина, находила утешение в поэзии и детям передала любовь к ней.
Семья Берггольц с многочисленными родственниками жила в двухэтажном деревянном доме за Невской заставой, вблизи Шлиссельбургского тракта. Фамилия у Ольги латышская – от деда со стороны отца. Другой дед, со стороны матери, был родом из рязанской деревни. Отец, Федор Христофорович Берггольц, окончил Дерптский университет, служил военно-полевым хирургом. Был он остер не только на скальпель, но и на язык, обладал молниеносным чувством юмора, а мама, Мария Тимофеевна Грустилина, находила утешение в поэзии и детям передала любовь к ней.
«Февральский дневник»
Был день как день.
Ко мне пришла подруга,
не плача, рассказала, что вчера
единственного схоронила друга,
и мы молчали с нею до утра.
Какие ж я могла найти слова,
я тоже – ленинградская вдова.
Мы съели хлеб, что был отложен на день,
в один платок закутались вдвоем,
и тихо-тихо стало в Ленинграде.
Один, стуча, трудился метроном…
И стыли ноги, и томилась свечка.
Вокруг ее слепого огонька
образовалось лунное колечко,
похожее на радугу слегка.
1942 г.
Был день как день.
Ко мне пришла подруга,
не плача, рассказала, что вчера
единственного схоронила друга,
и мы молчали с нею до утра.
Какие ж я могла найти слова,
я тоже – ленинградская вдова.
Мы съели хлеб, что был отложен на день,
в один платок закутались вдвоем,
и тихо-тихо стало в Ленинграде.
Один, стуча, трудился метроном…
И стыли ноги, и томилась свечка.
Вокруг ее слепого огонька
образовалось лунное колечко,
похожее на радугу слегка.
1942 г.
С какой целомудренной чистотой написано в 1942 году это начало «Февральского дневника» Ольги Берггольц о самой страшной за всю историю человечества блокаде, унесшей до полутора миллиона жизней.
Не было тогда в нашей стране ни одного мало-мальски читающего стихи человека, который не прочел бы «Февральский дневник».
Семья Берггольц с многочисленными родственниками жила в двухэтажном деревянном доме за Невской заставой, вблизи Шлиссельбургского тракта. Фамилия у Ольги латышская – от деда со стороны отца. Другой дед, со стороны матери, был родом из рязанской деревни. Отец, Федор Христофорович Берггольц, окончил Дерптский университет, служил военно-полевым хирургом. Был он остер не только на скальпель, но и на язык, обладал молниеносным чувством юмора, а мама, Мария Тимофеевна Грустилина, находила утешение в поэзии и детям передала любовь к ней.
Дореволюционное детство Ольги Берггольц ничего общего не имело с ее же юностью в облике пролетарской активистки двадцатых годов в кожаной куртке и алой петрово-водкинской косынке, с кимовским значком на груди. Раньше у нее были гувернантка и няня, но она сама отказалась от них, чтобы принципиально никого не эксплуатировать. Она была набожной – стала атеисткой. И все-таки та девочка из интеллигентной петербургской семьи уживалась в ней с почти ортодоксальной комсомолкой-идеалисткой.
Поэтому в годы войны так естественно она закуталась в один платок не только со своей подругой, но и со всеми ленинградскими блокадницами, чьим голосом стал ее голос. В валенках и красноармейском ватнике, пошатываясь от истощения, она подходила к своему ежедневному радиомикрофону, чтобы прочитать новые стихи, обращенные к народной совести.
И ее последним желанием было лежать на Пискаревском кладбище – там, где лежат тысячи ленинградцев, погибших в блокаду, где на граните выбиты написанные не кем-то, а ею слова: «…никто не забыт, и ничто не забыто».
Не было тогда в нашей стране ни одного мало-мальски читающего стихи человека, который не прочел бы «Февральский дневник».
Семья Берггольц с многочисленными родственниками жила в двухэтажном деревянном доме за Невской заставой, вблизи Шлиссельбургского тракта. Фамилия у Ольги латышская – от деда со стороны отца. Другой дед, со стороны матери, был родом из рязанской деревни. Отец, Федор Христофорович Берггольц, окончил Дерптский университет, служил военно-полевым хирургом. Был он остер не только на скальпель, но и на язык, обладал молниеносным чувством юмора, а мама, Мария Тимофеевна Грустилина, находила утешение в поэзии и детям передала любовь к ней.
Дореволюционное детство Ольги Берггольц ничего общего не имело с ее же юностью в облике пролетарской активистки двадцатых годов в кожаной куртке и алой петрово-водкинской косынке, с кимовским значком на груди. Раньше у нее были гувернантка и няня, но она сама отказалась от них, чтобы принципиально никого не эксплуатировать. Она была набожной – стала атеисткой. И все-таки та девочка из интеллигентной петербургской семьи уживалась в ней с почти ортодоксальной комсомолкой-идеалисткой.
Поэтому в годы войны так естественно она закуталась в один платок не только со своей подругой, но и со всеми ленинградскими блокадницами, чьим голосом стал ее голос. В валенках и красноармейском ватнике, пошатываясь от истощения, она подходила к своему ежедневному радиомикрофону, чтобы прочитать новые стихи, обращенные к народной совести.
И ее последним желанием было лежать на Пискаревском кладбище – там, где лежат тысячи ленинградцев, погибших в блокаду, где на граните выбиты написанные не кем-то, а ею слова: «…никто не забыт, и ничто не забыто».
Раскраска на OZON